Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Споры об эффективности и солидарные обязательства: тренды субсидиарки в цитатах
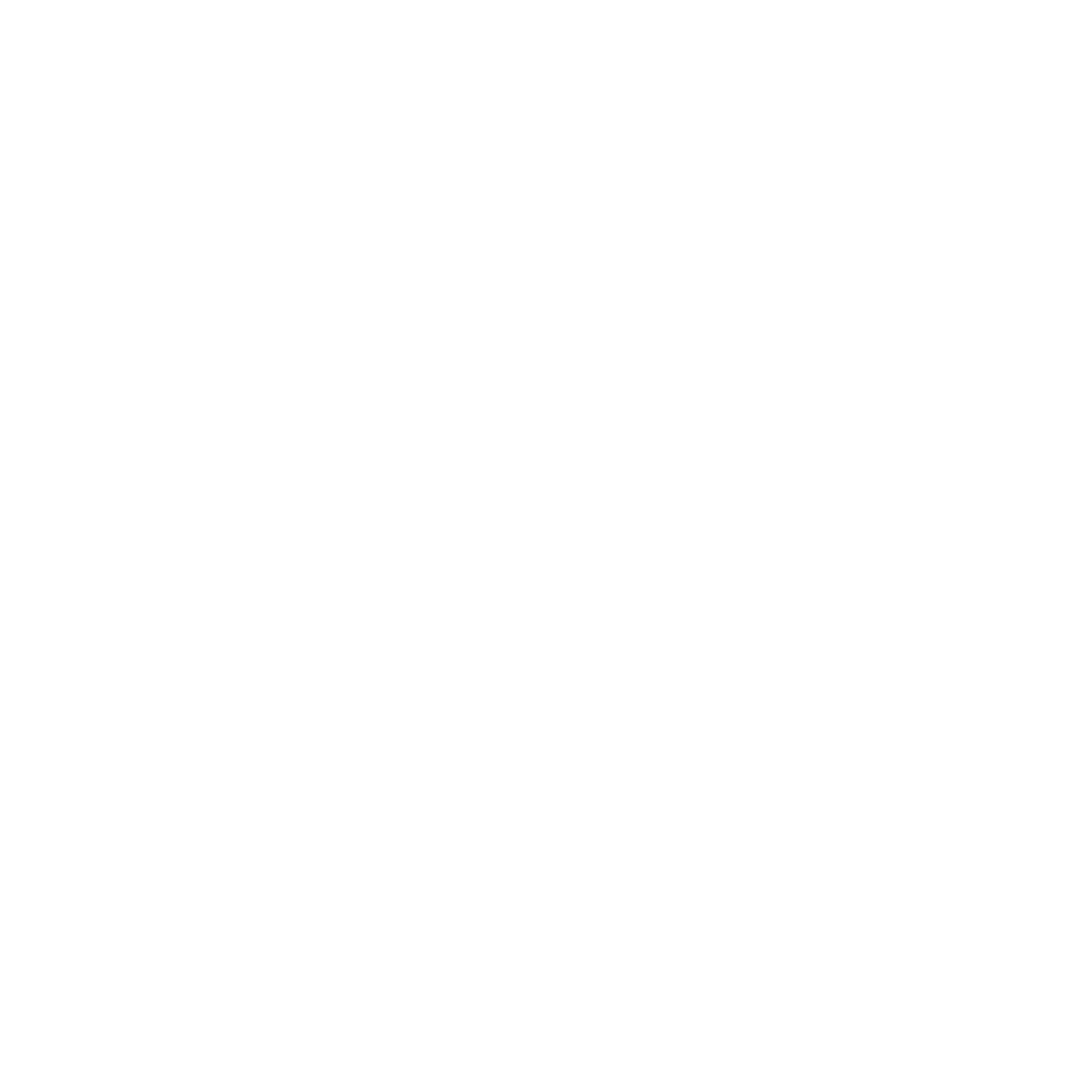
Экспертное мнение
Андрей Смирных, директор проектов Сбербанка: «Если посмотреть на субсидиарку сейчас, она плохо соответствует критериям справедливости, целесообразности и стабильности. Во-первых, сейчас к ответственности привлекают много наемных менеджеров — тех, кто когда-то один раз за что-то проголосовал, а не только злонамеренных бенефициаров и хищных алчных управленцев. Это выглядит несправедливо. Во-вторых, целесообразен ли такой институт, который дает возможность получить копейку с рубля с огромными временными и денежными издержками? Сейчас этот институт работает не очень эффективно. В-третьих, управленцам сложно ответить на вопрос, точно ли его не привлекут к ответственности за то или иное решение».
Субсидиарная ответственность должна быть такой, какая она есть — страшной. Статистика говорит, что бизнесу есть чего опасаться, и главная тенденция сейчас — любое неправомерное действие влечет ответственность. С этой тенденцией нужно работать, а не менять ее. К субсидиарке привлекают тех лиц, которые обращаются с имуществом юрлиц как со своим. Субсидиарка — это дамоклов меч, и он должен висеть над каждым бизнесменом, который принимает одно важное решение: готов ли он под риском субсидиарной ответственности причинить вред кредиторам юрлица.
Сергей Кислов, адвокат
Алина Хамматова, советник, адвокат АБ Вертикаль: «Чтобы быть в состоянии превенции нарушений прав кредиторов и стабильности гражданского оборота, поведение для таких нарушителей должно быть экономически невыгодным. Субсидиарная ответственность, как институт, как раз для этого и создана. Субсидиарка популярна, потому что ординарные инструменты банкротства экономически неэффективны. Поэтому нужно комплексное реформирование процедуры банкротства».
Николай Строев, советник, руководитель практики коммерческих споров МЭФ LEGAL: «Эффективность реального исполнения субсидиарки тоже низкая: поступлений в конкурсную массу — около 1%. Поэтому говорить об эффективности субсидиарки при общей неэффективности банкротства не приходится. По моему мнению, это один из способов дополнительно демотивировать арбитражных управляющих: им проще привлечь 50 сомнительных КДЛ и потом продать это требование, чем эффективно заниматься взысканием и восстановлением платежеспособности компании. Кроме этого, к ряду презумпций и бремени доказывания есть вопросы. Например, если КДЛ вывел активы на 5 млн руб., то почему он отвечает на 1 млрд руб. и весь реестр?»
Мое личное наблюдение: в 2009–2010 годах субсидиарка была совершенно неинтересна кредиторам, потому что нельзя было привлечь конечного бенефициара. Потом субсидиарка была интересна только налоговой. Поле 2017 года ситуация кардинально изменилась: последнее время именно кредиторы инициируют привлечение к ответственности. Им интересно разобраться, куда ушли деньги и куда делись активы. То есть субсидиарка сейчас нацелена не на наказание, а на выявление контролируемых незаконных и недобросовестных действий конечных бенефициаров всего бизнеса. Это не дубина, а способ формирования ответственного поведения в бизнес-среде.
Алексей Андреев, руководитель юридической группы ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
Максим Четвериков, советник Юридическая группа «Пилот»: «У предпринимателей бывают ошибки: они или зарабатывают, или теряют большие деньги. Но у нас нет разграничений между умыслом и неосторожностью. Нужно закрепить в законе, что субсидиарка должна быть только при прямом умысле. Суды должны понимать, что за неосторожность привлекать нельзя. Субсидиарка — это экстраординарная мера, поголовное привлечение к ней не нужно. Это только наносит вред бизнесу».
Андрей Сафонов, судебный юрист корпоративной практики BBNP : «Первое условие для привлечения к ответственности — это точное определение критического момента, то есть когда нужно было подать заявление. Если точной даты нет, то суд отказывает. Кроме того, в заявлении обязательно должен быть расчет размера ответственности. При этом нельзя смешивать момент возникновения долга и срок его оплаты. Если в деле участвуют аффилированные лица, то их долги не включаются в расчет новых обязательств».
Антон Поляков, руководитель проектной группы Бендерский и партнеры : «Вывод выручки на контрагента, уступка дебиторки третьим лицам, перевод контрактов на новое юрлицо — это типичные бизнес-решения, за которые привлекут к субсидиарке. КДЛ привлекут к ответственности, если он попадает в даты совершения сделок, которые привели к объективному банкротству. Кроме этого, он должен был давать руководящие указания и извлекать личную выгоду. Дополнительно суд смотрит на то, как КДЛ способствовал возникновению кризисной ситуации».
Нам кажется, что в вопросе субсидиарки очень много неопределенности. Ни один эксперт в этой теме не может в равной степени прекрасно без дополнительной проверки и погружения ответить на любой вопрос. Потому что, возможно, вчера было принято другое решение и этот вопрос уже урегулирован иначе. А в неопределенной ситуации не может быть эффективного бизнеса. Не может быть менеджера, который бы совершал без сомнения правильные и экономически обоснованные действия, потому что никто не может на 100% оценить ситуацию в моменте.
Сергей Ковалев, управляющий партнер Ковалев, Тугуши и партнеры
Алена Нелидина, начальник отдела банкротства, «Ульяновскэнерго»: «Назначение номинального руководителя, разделение единого бизнеса на несколько бизнес-процессов, перевод бизнеса, различные налоговые схемы и брошенный бизнес — это топ стратегий, которые приведут к субсидиарке. При признании номинальным руководителем нужно раскрывать всю цепочку принятия управленческих решений, а не просто заявить, что вы номинал. И не нужно забывать, что фактический и номинальный руководитель отвечают солидарно. А бросать бизнес — это явно не лучшая стратегия заканчивать дело в 2025 году».
Алексей Зуйков, руководитель направления корпоративной практики Tax Compliance: «Налоговая — это крупнейший инициатор дел о банкротстве. У нее больше информации, чем у обычных кредиторов, и для этого органа есть определенные преференции в части инициирования дела о банкротстве. И даже если снизить долю ФНС в реестре кредиторов, то это не значит, что ответственность исключается. Решения налоговой очень информативны: там сразу есть круг КДЛ, сведения о сделках по выводу активов, есть подразделы с перечнем имущества КДЛ. То есть фактически так налоговая создает плацдарм для привлечения к ответственности. Кроме того, ФНС может пытаться ввести упрощенную процедуру или взыскать задолженность через внебанкротную субсидиарку».
Иван Савельев, начальник управления судебной защиты «РСХБ-Страхования»: «Лицо нельзя признать КДЛ только на основании родства. Но это возможно по общим основаниям. Самый уязвимый статус — супруги, так как суды и налоговая рассматривают их как единого субъекта. Родители и дети тоже в категории максимального риска, так как связи с КДЛ наиболее очевидны. Здесь возможны наследственные схемы, фиктивное трудоустройство и вывод активов через дарение. Кроме того, налоговая рекомендует обращать внимание даже на одноклассников и сослуживцев КДЛ».
Фиктивные сделки лежат в основе всех возможных способов, которые могут привести к субсидиарке. Налоговая и кредиторы смотрят на историю сделки: были ли переговоры, переписка, внутренние согласования, при каких обстоятельствах договор подписали. Еще проверяют связанность контрагентов, и если есть какая-то связь между ними, то это повод поковыряться поглубже. Кроме этого, смотрят на экономическую обоснованность сделки, число сотрудников и наличие ресурсов для определенной деятельности (техника, помещения, программное обеспечение).
Юлия Литовцева, партнер Пепеляев Групп
Анастасия Лысенко, руководитель проектов ЮрТехКонсалт : «Зачет в банкротстве по умолчанию оспаривается. Но у него есть специфика: он не изменяет имущественное положение должника. Сейчас в практике предпринимаются попытки включить сделки по зачету в основания для привлечения к субсидиарке. Но суды в последнее время не рассматривают такие сделки как убыточные в контексте субсидиарной ответственности. Поэтому сделки о зачете не могут быть сами по себе основанием для банкротства. Однако можно рассматривать вариант, что в результате зачета должник лишился возможности взыскать реальные деньги с ранее платежеспособного дебитора».
Вадим Мартаков, руководитель департамента финансово-экономических экспертиз Veta: «Юристы обращаются к нам, чтобы понять, когда возникли реальные признаки банкротства. Для этого надо оценить финансово-хозяйственную деятельность компании, проверить признаки неплатежеспособности за конкретный период, комплексно оценить внешние условия работы, определить стадии жизненного цикла фирмы. Полученные графики помогают увидеть, когда состояние компании на самом деле стало хуже».
Дмитрий Мухин, руководитель по судебной работе «СИБУР»: «Если директор не изучает предварительно информацию при заключении договора, не получает одобрение сделки, не передает управляющему все нужные документы, то он бездействует. Основная форма бездействия — неподача заявлений о банкротстве. Это, по сути, презюмирует вину и становится основанием для привлечения к субсидиарной ответственности».
Реальную структуру группы компаний стоит выявлять, так как тогда проще определить реального конечного бенефициара. Если структура не формализована и сформирована для сокрытия центра прибыли или минимизации рисков привлечения к ответственности, то выявить конечного бенефициара становится сложно. При этом конфликты между реальными участниками и бенефициарами только увеличивают риски субсидиарки. Если же банкротство все же началось, то самое основное — это собрать доказательства своей невиновности.
Никита Филиппов, заслуженный юрист РФ, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»
ССтанислав Соболев, советник практики сопровождения реструктуризации проблемных активов и банкротств МЭФ LEGAL : «Верховный суд определил, что обязательства заявителя по оплате расходов на процедуры банкротства с обязательством КДЛ, привлеченного к субсидиарке, солидарно. То есть участник, заявитель и КДЛ находятся в солидаритете и отвечают наравне друг с другом, и каждый из них субсидиарно отвечает за должника. Но открытым остается вопрос: если КДЛ погасит расходы, может ли он предъявить иск к участнику?»
Анастасия Ляпунова, младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров Ляпунов Терехин и партнеры: «По солидаритету вопросов больше, чем ответов. Сейчас солидаритет требований предусмотрен фактически для всех участников банкротства. Практический пример: привлечение КДЛ к убыткам или субсидиарке за совершение какой-то сделки и оспаривание этой сделки с применением реституционного требования на такую же сумму. Но здесь много вопросов: как это уступать и, если какие-то требования уступлены, будет ли это основанием для исключения из реестра требований кредиторов? Сейчас суд все чаще смотрит по каждому ответчику отдельно, но солидарная ответственность остается, и ее все еще много. Практическая рекомендация для защиты — вносить в договоры условие об уступке только конкретного требования без поручительств, залогов и прочего и пытаться уйти от солидаритета в сторону долевой ответственности».
Универсального способа защиты от субсидиарной ответственности нет. Главное для минимизации рисков — это вести себя добросовестно и разумно. Это размытые понятия, но судебная практика дает некоторые пояснения. Например, на предбанкротной стадии стоит построить четкую систему принятия решений. Так минимизируются риски оспаривания сделок. Кроме этого, стоит проводить финансово-правовой аудит и разрабатывать антикризисный план при необходимости.
Станислав Петров, партнер, руководитель практики банкротства, адвокат Инфралекс.
Юлия Боброва, советник судебно-арбитражной практики Адвокатское Бюро ЕПАМ : «В банкротствах „дочек“ иностранных компаний как будто шире круг КДЛ и лиц, которых могут привлекать к ответственности. Это связано с тем, что директор по ЕГРЮЛ может быть номинальным и иностранцем, а реальную деятельность вел россиянин. Поэтому они теперь под ударом. Кроме этого, нельзя не учитывать тренд на солидаритет и позицию о том, что российское лицо — это, по сути, представительство иностранной компании».
Не хватает норм о субсидиарной ответственности, если вы хотите взыскать активы в США. И их слишком много, если активы не в США. По моему мнению, несправедливо преследовать номинального директора в России, который выполнял указания иностранного менеджмента. Российское судебное решение можно исполнить в США. Для этого решение должно быть окончательным, исполнимым в России и касаться денежной выплаты. И самое важное: ответчик должен быть уведомлен надлежащим образом и судья должен объяснить, почему ответчик виновен. Простого статуса недостаточно. Кроме этого, в решении должно быть указано, какие были убытки и как их рассчитывали.
Брюс Маркс, основатель и управляющий директор Marks&Sokolov.
Павел Кирсанов, партнер, глава практики реструктуризации банкротства Регионсервис : «Если должник перешел в собственность государства, а один из кредиторов — ФНС, то один из вариантов поведения — полный отказ от требований. Еще один вариант — это частичный отказ от требований в отношении ответчиков, чьи доли и акции перешли в доход государства. Кроме этого, возможно продолжение рассмотрения обособленного спора с учетом заявленных требований. Именно это будет самым честным и добросовестным вариантом».
Четвертая сессия конференции прошла в формате интерактивного квеста, где участники разрабатывали стратегии для защиты бизнеса — от предотвращения рисков привлечения к ответственности до минимизации угроз руководству и активам. Юристы попробовали свои силы в защите генерального директора и бенефициара и кардинально пересматривали позиции с учетом аффилированности сторон.
Все презентации спикеров конференции доступны по ссылке.
Диана Нижник. Право.ру



