Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Законопроект об адвокатской монополии вызвал волну критики
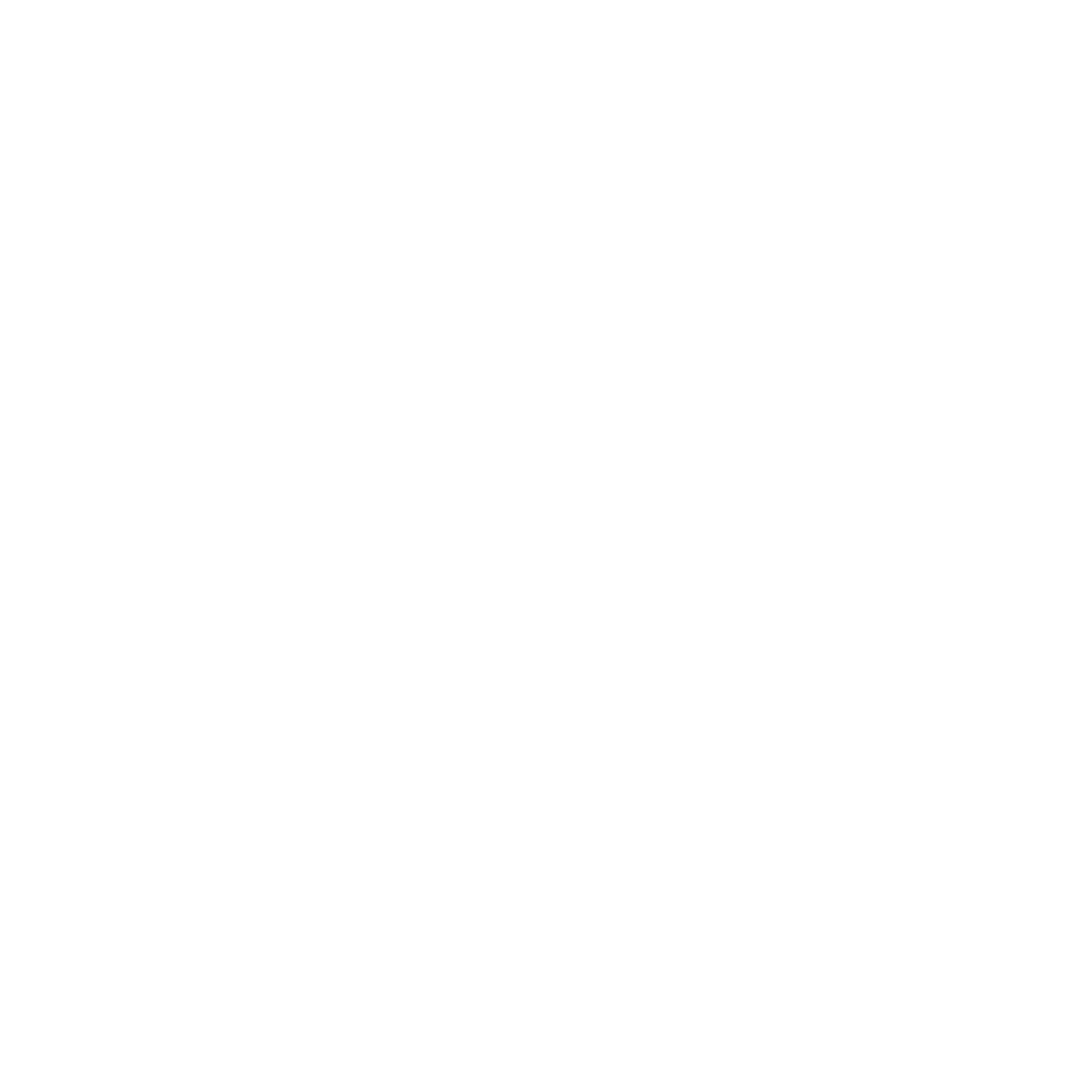
Экспертное мнение
Министерство юстиции России столкнулось с массовой критикой своего законопроекта об адвокатской монополии в ходе общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, рассказал «Коммерсантъ». Суть инициативы заключается в предоставлении исключительно адвокатам права судебного представительства граждан и организаций в большинстве возможных ситуаций.
Напомним, согласно предложению ведомства:
- к работе в суде будут допускаться только адвокаты, а также юристы, представляющие в разбирательстве интересы своего работодателя;
- право на судебное представительство без статуса адвоката сохранится у юристов лишь при рассмотрении дел у мировых судей и в случае административных правонарушений.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 января 2028 г.
Профессиональное юридическое сообщество выражает серьезные опасения относительно кадрового обеспечения предлагаемой реформы. По данным Минюста, в России зарегистрировано около 75 тыс. адвокатов, в то время как российские суды в 2024 г. рассмотрели более 42 млн дел.
«Каким образом 75 813 адвокатов справятся с 42 млн дел, т.е. 554 дела на одного в год, или 1,5 дела на одного адвоката в день?» — задается вопросом один из участников обсуждения.
Критики подчеркивают математическую невозможность качественного представительства при таком соотношении. Особую тревогу вызывает крайне неравномерное распределение адвокатов по регионам страны. В Московской области зарегистрировано 7845 адвокатов на 8,7 млн жителей, что составляет один адвокат на 1117 человек. В Ненецком автономном округе ситуация критическая — всего 6 адвокатов на 41,8 тыс. жителей, или 1 адвокат на 6971 человека.
Глава Минюста Константин Чуйченко заявлял о планах увеличить число адвокатов до 100 тыс. человек, однако юристы сомневаются в их реалистичности. Финансовые барьеры для получения адвокатского статуса становятся непреодолимым препятствием для многих квалифицированных юристов. Вступительные взносы в адвокатские палаты варьируются от 300 до 800 тыс. рублей в зависимости от региона.
«Средняя заработная плата в области 50 тыс. рублей. Вступительный взнос в адвокатскую палату 500 тыс. рублей. У меня трое детей, и собрать такую непосильную сумму я смогу не ранее чем через два года. Я не против быть адвокатом и не против сдать экзамен, я против того, чтобы платить 500 тыс. рублей за право работать по специальности», — пишет частнопрактикующий юрист Юлия Пашкова из Псковской области.
Экономические последствия реформы вызывают обеспокоенность не только у юристов, но и у представителей бизнеса. Эксперты прогнозируют значительное удорожание юридических услуг, что «ограничит обычным людям доступ к правосудию, т. к. у большинства граждан РФ просто нет таких денег».
Один из комментаторов отмечает: «Малый бизнес, который часто пользуется услугами независимых юристов из-за их более низких тарифов, столкнется с увеличением издержек, что ударит по предпринимательской активности».
Министерство юстиции утверждает, что инициатива «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Однако критики указывают на отсутствие в пакете документов оценки Минэкономразвития, что ставит под сомнение обоснованность таких заявлений.
Минюст настаивает, что монополия обеспечит гражданам гарантию качественного судебного представительства, поскольку для получения статуса адвоката необходимо сдать экзамен и соблюдать строгий Кодекс профессиональной этики. Но юридическое сообщество оспаривает тезис о повышении профессионализма через монополизацию.
«Вопрос: а разве юристы без адвокатского статуса не квалифицированны? И стоит заметить, что профессионализм не равно монополия. Только здоровые рыночные отношения, система образования и конкуренция обеспечивают профессионализм, а не запрет на деятельность», — пишет Олег Посадский. Впрочем, есть и сторонники реформы. «Я поддерживаю законопроект. Уж очень много мошенников на рынке юридических услуг», — написал Александр Кризский.
Минюст частично учел критические замечания и внес коррективы в законопроект. Ведомство отказалось от идеи запретить получение адвокатского статуса гражданам с погашенной и снятой судимостью, а также согласилось расширить список родственников, которых человек может самостоятельно представлять в гражданском процессе. Кроме того, Минюст предложил установить «потолок» максимальных сумм взносов в адвокатские палаты. В остальном ведомство продолжает отстаивать необходимость реформы, ссылаясь на дополнительные гарантии для граждан, такие как принцип адвокатской тайны и механизм адвокатского запроса к госорганам.
В ответ на инициативу Минюста было создано движение «Объединение юристов», объединившее более 3,5 тысячи участников. Председатель движения Екатерина Гуленкова требует снять законопроект с рассмотрения.
По мнению Станислава Петрова, адвоката, партнера, руководителя практики Адвокатского бюро города Москвы «Инфралекс», введение адвокатской монополии представляется закономерным этапом в развитии и регулировании рынка юридических услуг в России.
По его словам, практика ограничения доступа к представительству в судах в той или иной форме существует в большинстве ведущих мировых юрисдикций. В результате реформы появится возможность лишать недобросовестных юристов права на практику, что сегодня практически невозможно. Отсутствие такого контроля создает благоприятную почву для мошенничества и оказания неквалифицированных услуг, указал он.
В то же время нельзя игнорировать обоснованные опасения противников реформы. Они указывают на неизбежный рост стоимости юридических услуг, вызванный сокращением числа судебных представителей и увеличением их налоговой нагрузки. Для смягчения этих негативных последствий было бы целесообразно предоставить адвокатам доступ к специальным налоговым режимам, которые применяются индивидуальными предпринимателями. Эта мера могла бы частично компенсировать рост цен на правовую помощь. Однако в текущих условиях бюджетной экономии реализация такого предложения выглядит маловероятной.
Станислав Петров
адвокат, партнер, руководитель практики Банкротства Адвокатское бюро города Москвы «Инфралекс»
Екатерина Гуленкова, судебный юрист, автор канала «Дикий консалтинг», согласна со всеми отрицательными оценками законопроекта и полностью разделяет обеспокоенность коллег.
Обоснование законопроекта, по ее мнению, никуда не годится, а для дел о банкротстве «монополия адвокатов может стать просто катастрофой, но, кажется, об этом просто никто не подумал».
Отдельного внимания, отметила она, заслуживает разработка законопроекта. До даты публикации были только слухи о том, в каком виде Минюст видит «профессионализацию» рынка – то ли только для судов общей юрисдикции, то ли только для граждан, а в итоге получился самый жесткий вариант (для всех и почти везде).
При этом до публикации законопроект обсуждали только с руководством адвокатуры, которое прямо заинтересовано в увеличении количества взносов, а также с руководителями крупных адвокатских образований, которым выгодно устранение конкурентов, пояснила она.
Разве можно назвать надлежащей такую подготовку законопроекта, полностью меняющего экономическую отрасль юридических услуг и влияющего на сотни тысяч юристов? Убеждена, что так быть не должно. Чтобы у частнопрактикующих юристов и юридических фирм было свое представительство, в июле мы объединились в общественное движение «Объединение юристов» и сейчас от его имени ведем работу, чтобы не допустить принятия законопроекта. Она уже приносит результаты – появляется все больше отрицательных заключений на законопроект от организаций и госорганов, к которым мы обращаемся от имени движения. Призываю всех коллег к нам присоединяться либо вести самостоятельную работу, потому что принятие законопроекта будет иметь катастрофические последствия как для рынка, так и для страны в целом (за исключением сиюминутной выгоды для небольшого количества ее инициаторов).
Екатерина Гуленкова
судебный юрист, автор канала «Дикий консалтинг»
Давид Кононов, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры», полагает, что адвокатская монополия в предлагаемом виде – это скорее реформа не про качество, а про контроль.
В России всего около 75 тыс. адвокатов при десятках миллионов судебных дел ежегодно, напомнил он данные статистики. Даже если увеличить число адвокатов до 150 тыс., дефицит кадров и региональные перекосы никуда не исчезнут. Рынок, по его словам, получит не «фильтрацию от некачественных юристов», а ценовой шок и фактическое ограничение доступа к правосудию.
Законопроект оставляет за гражданами право «самопредставительства», а также возможность в ограниченном порядке представлять своих близких родственников. Все остальное – только адвокаты или корпоративные юристы внутри компаний, подчеркнул он.
Это означает, что независимые практикующие юристы будут вытеснены с рынка, а адвокатура окажется встроенной в административную систему через дисциплинарные механизмы и контроль Минюста. Для клиента это означает снижение гибкости в выборе защитника. Для крупного бизнеса эта реформа управляемая: компании создадут собственные адвокатские образования и заключат рамочные соглашения. Для малого бизнеса последствия куда жестче: рост тарифов и необходимость отказываться от части судебных процессов. Парадокс в том, что монополия может укрепить и расширить серый рынок – «номинальных адвокатов», под прикрытием которых будут работать те же юристы без статуса. Ключевая слабость законопроекта – отсутствие экономической базы. Нет расчетов, как финансировать подготовку новых адвокатов, как нивелировать барьеры вступления в профессию (вступительные взносы доходят до сотен тысяч рублей) и как решать проблему региональной диспропорции. А без этого «повышение качества» остается лозунгом.
Давид Кононов
к.ю.н., адвокат, управляющий партнер Адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры»
В выигрыше, по его словам, не окажется никто: граждане столкнутся с ростом издержек и падением доступности правосудия, бизнес – с ограничением свободы выбора и ростом цен, адвокаты – с перегрузкой и риском девальвации профессии, государство – с падением доверия к системе. Чтобы реформа была жизнеспособной, необходимы поэтапный переход, сертификация опытных юристов без статуса, прозрачные и доступные взносы, региональные программы поддержки. И главное – отказ от идеи прямого административного контроля над адвокатурой, заключил Давид Кононов.
Отметив, что законопроект об адвокатской монополии вызвал широкий дискурс в юридическом сообществе, поделив его на два лагеря: адвокатов (сторонников адвокатуры) и так называемых «антимонопольщиков», т.е. тех, кто выступает против адвокатской монополии, Юлий Тай, адвокат Адвокатского бюро «Бартолиус», отдельно остановился на самом термине.
По его мнению, словосочетание «адвокатская монополия», похоже, придумали как раз те, кто против адвокатуры. Слово «монополия» изначально несет отрицательную коннотацию и загоняет адвокатов в позицию оправдывающихся. Это не лучшая стартовая позиция в споре, поэтому Юлий Тай считает, что использование этого термина, что использование этого термина – заведомо недобросовестно. И если участники обсуждения хотят дойти до истины, а не просто победить, от него следует отказаться.
Я давно высказывался в поддержку объединения нашей весьма благородной и важной деятельности. Являясь адвокатом с 2001 г., я несколько лет возглавлял Совет молодых адвокатов АП города Москвы и неоднократно избирался (благодарю за оказанную честь и доверие) в Совет Адвокатской палаты города Москвы. Пишу это не для проформы, а чтобы подчеркнуть: я не претендую на отстраненность от адвокатуры и не считаю себя независимым арбитром. В силу накопленного опыта считаю себя вправе утверждать, что знаю не только достоинства, но и недостатки как отдельных адвокатов, так и адвокатуры в целом. Дисциплинарная практика АПгМ не позволяет рассматривать адвокатов как безупречных профессионалов, скорее наоборот: там можно увидеть и измерить «нижнее днище нижнего ада». Противоестественно, когда люди одной и той же профессии исповедуют разные принципы и не образуют единого профессионального сообщества. Это противоречит не только правовому принципу равенства всех перед законом, но и этическому правилу: относиться одинаково к равным. Я уже объяснял, почему объединение полезно и логично и почему именно адвокатура могла бы стать его основой: она институционализирована и в наибольшей степени готова выполнять такую функцию. Аргументы противников – вроде «зачем нам в стойло», «зачем нам этические правила», «зачем нам общие стандарты и представительство» – не кажутся мне ни обоснованными, ни честными. Скорее, в них ощущается инфантильность и дух подросткового протеста. Нельзя заниматься правовой практикой, представлять граждан и организации в судах, консультировать, влиять на судьбы людей и при этом не соблюдать никаких правил, не нести ответственности и не подчиняться никакому надзору. Мы ведь не художники, которые «пишут, как видят». У нас другая профессия. Ссылки на то, что юристы существовали в режиме стихийного рынка и ничего страшного не произошло, не выдерживают критики. Во-первых, многое произошло – просто «потери бойцов» предпочитают не замечать. Во-вторых, обыденность зла не превращает его в норму, с которой следует смириться.
Юлий Тай
к.ю.н., адвокат Адвокатское бюро «Бартолиус»
Да, в адвокатуре есть свои проблемы, согласился он, в том числе дисциплинарного характера. Так, Юлий Тай привел данные из Отчета АПгМ за 2024 г., согласно которым:
«Статус адвоката прекращен у 240 человек, из них по заявлению (собственному желанию) – 142, в порядке дисциплинарного производства – 51, в связи со смертью – 36, в отношении 11 – в связи со вступлением в законную силу приговора суда о признании адвокатов виновными в совершении умышленного преступления». В 2022 году: статус адвоката прекращен у 309 человек, из них в порядке дисциплинарного производства – 79».
Эффект «очищения», по его словам, при этом снижается: многие из них продолжают практиковать в статусе «внепалатных» и затем «всплывают» в адвокатских палатах некоторых регионов. Но в отношении остальных юристов не существует даже такого механизма. Их может остановить только уголовное преследование или физическое насилие, которое, хоть и незаконно, но в ряде случаев де-факто выполняет регулирующую функцию. Такое положение вещей не просто странное – оно неприемлемо, уверен он.
«Кроме того, отмечу, что государство в лице Минюста стремится объединить всех юристов в одну профессию. Казалось бы, это соответствует тому, за что я всегда выступал. Однако цель этого объединения, как видно сейчас, иная. Оно происходит не для того, чтобы создать сильное, независимое, социально и политически влиятельное сообщество юристов, с мнением которого были бы вынуждены считаться все, включая государство, и способного играть значимую роль в правовом развитии страны. Напротив, объединение направлено на достижение противоположного результата. Юристы будут собраны под эгидой адвокатуры лишь затем, чтобы эта последняя форма самоуправления оказалась под контролем Минюста, а значит, под контролем государства», – полагает Юлий Тай.
В такой системе, продолжил он, лишение статуса адвоката станет универсальным и достаточным способом устранения «неудобных» юристов. Сейчас это не работает, так как исключенный из адвокатуры юрист сохраняет возможность заниматься деятельностью в ином статусе, пусть и ограниченном (без допуска к уголовным делам). Но как только все юристы будут приведены к единому статусу адвоката, каждый из них окажется в зависимости от регулятора.
В начале 2000-х, 2010-х и даже в начале 2020-х гг., напомнил Юлий Тай, адвокатура сохраняла свою самостоятельность, хотя шаг за шагом ее лишали важных атрибутов независимости. Сейчас ситуация значительно ухудшилась. Федеральная палата адвокатов контролирует региональные палаты по ключевым вопросам, в частности, по дисциплинарной ответственности адвокатов. Не за горами лишение статуса адвоката по решению суда, а возможно, и в административном порядке.
Независимость адвокатуры, подчеркнул он, сжимается, как шагреневая кожа: многое стало зависеть от конкретных персоналий и обстоятельств. Показательно изменение профильного закона, позволяющее лишить статуса адвоката за сам факт отсутствия в России в течение года, как будто правовую помощь нельзя оказывать дистанционно. При принятии закона представители государства и отдельные члены ФПА уверяли, что «никакого автоматизма не будет», и такая мера будет применяться в исключительных случаях.
«Прошел ровно год с момента вступления поправок в силу, и уже зафиксирован первый (и, уверен, не последний) случай их применения. Причем в отношении коллеги, которая занимается правозащитной и общественно значимой деятельностью. Никто до сих пор не объяснил, каким образом местонахождение адвоката влияет на его профессиональные качества и способность оказывать помощь. Мне известно несколько решений, принятых ФПА, которые еще недавно были бы немыслимы. И это, не считая тех случаев, когда эти решения не были реализованы только благодаря авторитету, воле и мужеству отдельных членов Совета.
Около десяти лет назад я участвовал в ряде заседаний в Минюсте по вопросам реформирования профессии. Тогда обсуждение шло в конструктивном ключе: ставилась задача гармонизации, создания удобной среды для входа в адвокатуру бизнес-юристов, в том числе из крупных компаний. Сейчас все иначе: мероприятия носят совсем другой характер и направлены на достижение иных целей. В связи с вышеизложенным я, оставаясь адвокатом, считаю целесообразным существование альтернативного объединения юристов, не подчиненного контролю и надзору со стороны государства. Я слишком давно работаю в юриспруденции и слишком много читаю по истории, чтобы питать иллюзии. Такое сообщество в случае серьезного давления вряд ли сможет противостоять Левиафану. Увы, нет. Тем не менее эта альтернатива должна существовать. Голос каждого юриста важен и заслуживает того, чтобы быть услышанным. Адвокатура должна быть защищена от посягательств со стороны государства. Ее независимость, самоуправление и корпоративная природа должны быть сохранены. Это conditio sine qua non существования правового государства», – заключил Юлий Тай.
Законопроект Минюста об «адвокатской монополии» вызывает серьезные сомнения в практической реализуемости, констатировала Анастасия Ляпунова, младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров Юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры».
Она также привела данные статистики, согласно которым сегодня в России около 75 тысяч адвокатов при десятках миллионов судебных дел в год, и их число явно недостаточно. К тому же адвокаты распределены крайне неравномерно по регионам, что усилит проблему доступности правосудия. А высокие вступительные взносы в палаты (сотни тысяч рублей) ограничивают приток новых кадров и создают финансовый барьер для юристов.
Введение монополии, по ее мнению, приведет к росту стоимости юридических услуг и ударит по малому бизнесу, для которого расходы на судебное представительство резко увеличатся.
При этом нет доказательств, что качество помощи повысится: многие юристы без статуса адвоката давно обеспечивают достойный уровень защиты. Экономическое обоснование инициативы отсутствует, а зарубежные модели перенесены без адаптации. Если закон вступит в силу в 2028 г., можно прогнозировать дефицит представителей в судах, перегрузку адвокатов и рост числа граждан, вынужденных идти в процесс без квалифицированной поддержки.
Анастасия Ляпунова
младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров Юридическая фирма «Ляпунов Терехин и партнеры»
Рациональнее, считает она, обсуждать поэтапный подход: снижение барьеров входа в адвокатуру, развитие механизмов аккредитации судебных представителей и формирование переходного периода. Только так можно улучшить качество услуг, не разрушая рынок и не лишая граждан права на доступное правосудие, заключила Анастасия Ляпунова.



